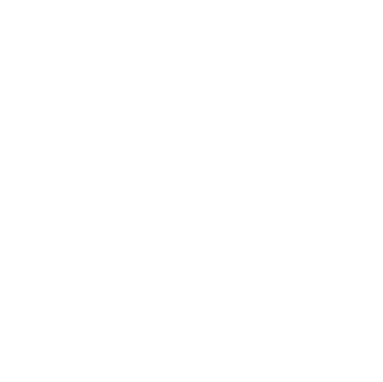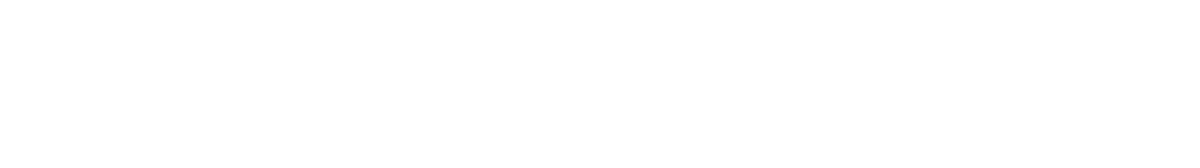Описание и фото
- Историческая сцена
- Премьера —26 июня 1976 (возобновление — 21 апреля 2010)
- Продолжительность — 2 часа 20 минут с одним антрактом
- Музыка — Сергей Прокофьев
- Либретто по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Сергея Прокофьева, Сергея Радлова, Адриана Пиотровского в редакции Юрия Григоровича
Юрий Григорович рассказывает о своем спектакле: "Балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева я впервые ставил в Парижской опере на сцене Пале Гарнье в 1978 г. После того, как в Париже с успехом прошла премьера моего балета «Иван Грозный», директор театра Рольф Либерман пригласил меня на следующую, на сей раз шекспировскую постановку.
Мы с Сулико Вирсаладзе, моим постоянным художником и другом, остановились на необычном решении спектакля. Мир трагедии Шекспира предельно абстрагировался и окрашивался не в цвета оптимистического, как принято думать, ренессансного мироощущения. Нет, мы выбрали черный цвет как трагедийную краску, призванную обозначить мир трагедии вообще, вне каких-то примет и конкретного «адреса». На черном бархате высвечивались отдельные детали. Мир обобщался, максимально освобождался от подробностей быта, оставалась лишь одна симфония любви.
Вернувшись из Парижа домой, я начал думать о постановке в Большом, вовсе не стремясь отменить или пересмотреть легенду и перекрыть славу старого спектакля. Было решено сохранить в репертуаре старую постановку, перенеся ее на сцену Кремлевского дворца. Таким образом, какое-то время обе версии балета шли параллельно. И не ради соревнования, а чтобы показать: музыка Прокофьева не исчерпывается единственным сценическим решением.
Узнав, что я собираюсь ставить этот балет, Ростислав Владимирович Захаров принес мне хранившуюся у него на антресолях отвергнутую изначально партитуру 1936 г., в которой обнаружились музыкальные фрагменты, никогда ранее не звучавшие. Они были не равноценны, но мы с дирижером Альгисом Жюрайтисом хотели прочесть сочинение полностью, без изъятий, хотели работать с первоисточником. Жюрайтис оркестровал три новых музыкальных куска. И они вошли в постановку, по-своему дополнив композиторский замысел. Возник клавир номер два, ставший для нас музыкальной основой.
Московский спектакль получился совершенно отличным от парижского. Мы с Вирсаладзе многое пересмотрели. Было создано и другое оформление, и другие костюмы. Мир Вероны, продолжая оставаться конфликтным, стал многокрасочным. В нем возникла некоторая жизненная конкретика, пейзаж, фон. И оказалось, что и это решение возможно. И оно вполне вытекает из музыки, не противоречит ей. В дальнейшем я и в уже готовый спектакль постоянно вносил изменения. Многое в нем уточнял, причем, иногда буквально перед самым показом и во время гастролей — на Кубе, например, или в Италии, где балет шел на открытой площадке и требовал особого редактирования. Потом я ставил «Ромео» в разных театрах в нашей стране и за рубежом, и продолжал совершать для себя все новые и новые открытия.
Мы с Сулико Вирсаладзе, моим постоянным художником и другом, остановились на необычном решении спектакля. Мир трагедии Шекспира предельно абстрагировался и окрашивался не в цвета оптимистического, как принято думать, ренессансного мироощущения. Нет, мы выбрали черный цвет как трагедийную краску, призванную обозначить мир трагедии вообще, вне каких-то примет и конкретного «адреса». На черном бархате высвечивались отдельные детали. Мир обобщался, максимально освобождался от подробностей быта, оставалась лишь одна симфония любви.
Вернувшись из Парижа домой, я начал думать о постановке в Большом, вовсе не стремясь отменить или пересмотреть легенду и перекрыть славу старого спектакля. Было решено сохранить в репертуаре старую постановку, перенеся ее на сцену Кремлевского дворца. Таким образом, какое-то время обе версии балета шли параллельно. И не ради соревнования, а чтобы показать: музыка Прокофьева не исчерпывается единственным сценическим решением.
Узнав, что я собираюсь ставить этот балет, Ростислав Владимирович Захаров принес мне хранившуюся у него на антресолях отвергнутую изначально партитуру 1936 г., в которой обнаружились музыкальные фрагменты, никогда ранее не звучавшие. Они были не равноценны, но мы с дирижером Альгисом Жюрайтисом хотели прочесть сочинение полностью, без изъятий, хотели работать с первоисточником. Жюрайтис оркестровал три новых музыкальных куска. И они вошли в постановку, по-своему дополнив композиторский замысел. Возник клавир номер два, ставший для нас музыкальной основой.
Московский спектакль получился совершенно отличным от парижского. Мы с Вирсаладзе многое пересмотрели. Было создано и другое оформление, и другие костюмы. Мир Вероны, продолжая оставаться конфликтным, стал многокрасочным. В нем возникла некоторая жизненная конкретика, пейзаж, фон. И оказалось, что и это решение возможно. И оно вполне вытекает из музыки, не противоречит ей. В дальнейшем я и в уже готовый спектакль постоянно вносил изменения. Многое в нем уточнял, причем, иногда буквально перед самым показом и во время гастролей — на Кубе, например, или в Италии, где балет шел на открытой площадке и требовал особого редактирования. Потом я ставил «Ромео» в разных театрах в нашей стране и за рубежом, и продолжал совершать для себя все новые и новые открытия.
Сейчас в Большом театре этот балет будут танцевать те, кто на сцене его никогда не видел, разве что в раннем детстве. Это не попытка дважды войти в одну реку. Мне хочется оживить шекспировские образы в новом времени, вернуться к вечному сюжету и к вечной — действительно, вечной — музыке. Для меня очень важны и личные воспоминания о Наталии Бессмертновой — первой Джульетте моей постановки. Она во многом и вдохновляла тогда мои поиски. Ее индивидуальность столько определила в том нашем общем балете…